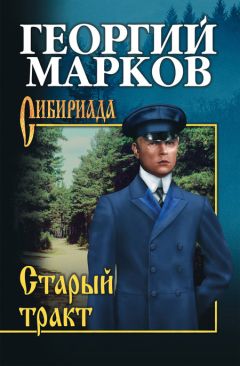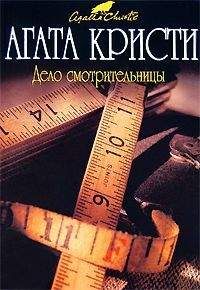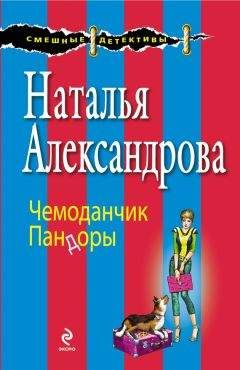9
Вот тут-то, в коридорчике у окна, и заприметил Варю Пахом Васильевич Парамонов. На манер Вари он тоже смолоду любил сумерки. Именно в этот час суток в его душе рождалось труднообъяснимое желание прервать все дела, и уединиться, и подумать неспешно о себе, о людях, о путях житейских…
— Что, Варя, тоска легла на ретивое? — бесшумно подойдя к окну, сказал Пахом Васильич.
Варя вздрогнула от неожиданности, обернулась, отступила на полшага, как бы приглашая Пахома Васильича занять место у окна.
— Да что вы! — попыталась отказаться Варя.
— Да уж вижу! Чего там! — подтвердил свои предположения Пахом Васильич.
Уж чего Варя не могла допустить, так это то самое, что происходило: чужой, посторонний человек прихватил ее в укромном местечке и без всякой ошибки понял ее состояние — тоскует! Может быть, выдала ее задумчивость лица? Слезинки, застывшие в уголках глаз? Но ведь он и лица-то ее по-настоящему не видел, она стояла спиной к нему…
А по спине-то он и догадался, что девушка охвачена печалью: плечи перекошены, опущена голова, руки повисли, как неживые. Варя стремительно выпрямилась, вскинула руки на грудь.
Пахом Васильич не стал больше ни о чем расспрашивать Варю, а, встав с ней рядом, заговорил приглушенным голосом:
— Я вот тоже какой? Шибко чувствительный. А почему, не сразу объяснишь. Думаю, потому, что обижали меня. При случае расскажу. Обиды, как песок в воде: не растворяются, на дно садятся. А когда вот так смотришь в одиночку на землю под снегом, на голые ветки — замутнение в душе происходит. Одно вспомянешь, другое придет на ум, третье за сердце схватит…
— Да кто же это мог обижать вас, Пахом Васильич? По виду вы самостоятельный, — полуобернувшись, сказала Варя, не скрывая недоверчивости в голосе.
— По виду, Варя, лишь по виду. А обижала судьба. Пожил-то я подходяще. Восьмой десяток разменял. Все случалось. Все было.
Варя окинула взглядом Пахома Васильевича, пришедшего сюда в больничном халате, накинутом на худые, острые плечи, в тапках с загнутыми носками, в нижней рубашке из белого полотна, с тесемками вместо пуговиц, и впервые подумала о нем, как о старике. Всегда живой, разговорчивый, с темными волосами без седины, выбритый, с громким, молодым голосом, умеющий по всякому поводу сыпать шутками и прибаутками, Пахом Васильич существовал в сознании Вари вне возраста, просто как пожилой человек, представитель старшего поколения.
— Ты случайно не из сельской местности? — помолчав, спросил Пахом Васильич.
— Деревенская я! — воскликнула Варя.
— Ну вот и я тоже. Стало быть, два сапога пара, — усмехнулся Пахом Васильич.
— А почему вы так подумали? Разве на мне метка какая? — поинтересовалась Варя.
— Глаз у меня приметный. Вижу — стоишь и стоишь ты у окна, к земле присматриваешься, про свое соображаешь. У городской девахи такое в ум не придет. Ни за что не придет!
— То есть как это «не придет»? Почему же? — Варя повернулась к Пахому Васильичу, встала спиной к окну. Какой-то запоздавший яркий лучик, заблудившийся в голых ветках больничного парка, скользнул по худощавому лицу Пахома Васильича и, мгновенно поиграв на стеклах его очков в латунной оправе, загас навсегда. «Может быть, он знахарь. Чужую жизнь может предсказывать, поворожить бы насчет письма от Мишки: будет, не будет?» — подумала Варя и насторожилась, видя, что Пахом Васильич морщит лоб, готовится ответить ей.
— А так, Варя. Природа свое пробьет.
Варя вздохнула. Ждала что-то более ясное и значительное. Пахом Васильич понял, что девушка недовольна его ответом, покашлял в кулак, решил кое-что добавить.
— Ты вот вроде при деле, а в думах у тебя другое. Оно и манит тебя к природе. Хоть через окно, а все ж лес и поля душу согревают. Городской человек, наоборот, в четыре стены тянется.
«Ну в точности он говорит. Наверняка ясновидец», — подумала Варя, испытывая желание кое-что еще разведать о себе у Пахома Васильича. Но старик заспешил в палату — наступила пора приема лекарства.
— А ты почему не на курсах? — обернувшись, спросил Пахом Васильич.
— В ночь уборку назначили. Говорят, вот-вот наше отделение академик посетит.
— Ну-ну. Чтоб чистота с ног валила, — засмеялся Пахом Васильич и зашаркал раненой ногой в коридор, то и дело оглядываясь.
Академик не появился в больнице ни через день, ни через два, ни через неделю. Ждали-ждали его и бросили ждать.
За это время Варя еще ближе познакомилась с Пахомом Васильичем. Они снова стояли у окна, в тот же предвечерний час, когда в больнице наступала тишина, а парк растворялся в сумраке, становясь загадочным, навевающим тоску и тревогу.
Пахом Васильич не забыл своего обещания при случае рассказать, как его обижали.
— Парень я был грамотный. В пятой армии партийную школу кончил. В Иркутске дело было. — Голос у Пахома Васильича звонкий, он слегка сдерживал его, и потому все, что он говорил, окрашивалось доверительностью.
Варя слушала в два уха, боясь даже переступить с ноги на ногу.
— Прибыл в родные места, и первый путь в райком. Так и так: вернулся из армии, готов приложить силы к строительству на селе новой жизни! «Хорошо, — говорит секретарь райкома. — Кадры нужны позарез. Будешь, нет по торговой линии работать? Ленин наказывал учиться торговать».
«Купцом, говорю, не собирался быть, по раз советской власти надо, пусть будет по-вашему». — «Вот это большевицкий ответ. Будешь, Парамонов, кооператором. Для этого надо курсы пройти. Дело непростое». Поехал я в Новосибирск, школа была при краевом потребсоюзе. Приехал назад тот, да не тот. В товарах понимаю, бухгалтерию освоил, как подойти к вопросу — тому или другому — обучен. Мне сразу пост: председателем сельпо. А в сельпо четыре лавки и один магазин в районном центре.
Начал я разворачивать дело. Не только себя всего работе отдавал, других не жалел. В иных селах в магазинах пусто, у меня от товаров полки ломятся. Рыскаю по городам, здесь чем-нибудь разживусь, там, глядишь, чего-нибудь прихвачу и все везу, везу. От похвалы проходу нет. «Вот Парамонов — голова! Вот раздувает кадило Пахом Васильич!» Ну, сама знаешь, будь хоть кремень, а замлеет сердечко от такой сладости. А всего более хвалят меня свои же, которые в магазине и по лавкам сидят. Я к ним с полным доверием, думаю, и они той же монетой отплачивают мне. И так я им верил, Варя, как себе. Особо верил тем, которые в райцентре, в магазине сидели: Петру Семибратову (этот по промтоварам был) и Марее Косухиной — продовольствием ведала.
И вдруг ревизия! Да какая! Из самого крайпотребсоюза. За три года все бумаги подняли, все счета и акты перетрясли. И, чую я, примолкли все, кто меня хвалил. Одна только Марея Косухина ерепенится: «Честный Пахом Васильич! Не жулик он! Не угнетайте его подозрением! Хлебной крошки не взял он у меня даром. Все б так берегли народное добро — жили б люди уже в коммунизме». Да только кто ж возьмет ее слова в резон? Млела Марея по мне. Был я тогда холостой. И знали об этом все охочие до чужой жизни.
А вот Петр Семибратов задудел по-другому. «Брал у вас товары Парамонов?» — «Как же, брал многократно». — «Платил?» — «Когда охота была, платил». И такое накрутил Петька на меня — страх подумать. Другие, которые в лавках сидели, кое-что добавили… У самих-то рожи в назьме были, ну а на кого свалить? Председатель!
Долго ли, коротко ли — подоспел суд. Время было суровое — прав ли, виноват ли — отвечай. А главный ответчик я. Мне и отвалили: именем Российской Советской Федеративной Республики пять лет заключения в лагерях. Марее Косухиной год условно, за халатность… Одному из лавки — два года. А Петька Семибратов выкрутился. Даже в торговле оставили его… пусть, дескать, дальше трудится на славном поприще…
— Да как же это можно?! Где же справедливость, Пахом Васильич! — краснея лицом, возбужденно воскликнула Варя. Но Пахом Васильич не остановился, не прервал рассказа, только покашлял в кулак, подышал запаленно.
— Тяжко обидели меня тогда близкие люди. За мое доверие заплатили подлостью. Подал я в краевой суд апелляцию. Писал: сочтете виноватым, отбуду все пять лет, но замените формулировку, не пишите про жульничество и казнокрадство. Ни того, ни другого не было. Напишите: превысил доверие к людям. Превысил! Всякое превышение недопустимо и караемо. Не зря говорится: иная доброта хуже воровства. И представь себе, Варя, пошло дело на доследование. Два года скостили мне. И судья попался чуткий — написал в приговоре, как я просил: Парамонов бездумно доверился, ослеп от лести, передоверил там, где требовалась предельная строгость в отношениях с подчиненными… Вишь, какая она, жизнь: начни не доверять я — дело, пожалуй, не сдвинулось бы, а пе-ре-до-верил — в беду попал.
— Ну а что ж Семибратов, так и остался сухим? — горячим шепотом спросила Варя.